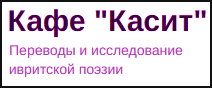АРЬЕ БАРАЦ
Недельные чтения Торы
Праздники и даты
К содержанию
Недельная глава "Толдот"
ПРЕДЪЮДОФОБИЯ («Толдот» 5767 - 23.11.2006)
Продажа первородства
В недельной главе «Толдот» рассказывается о взаимоотношениях сыновей Ицхака - Иакова и Эсава. Среди прочего читаем мы и о продаже Эсавом своего первородства: «И отроки выросли, и стал Эсав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля; а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. И Ицхак любил Эсава, потому что дичь его была ему по вкусу; а Ривка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье; а Эсав пришел с поля усталый. И сказал Эсав Иакову: дай мне поесть из красного, красного этого, ибо я устал. Поэтому дано ему прозвание Эдом. И Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. И Эсав сказал: ведь я хожу на смерть, на что же мне первородство? И Иаков сказал: поклянись мне теперь же. И он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову» (25:27-33).
Мы ясно видим: Иакову так было необходимо первородство – синонимичное в данном случае избранию, что он пошел на удивительные ухищрения, чтобы его добыть. Но почему Эсав этот дар избрания с такой легкостью уступил?
Еврейские комментаторы в один голос утверждают, что Эсав не был достоин своего первородства, что он не ценил его, и по заслугам его лишился.
Спорить с этим невозможно. Однако при этом все же остается одна неясность. Что стоит за этим недостоинством? Отсутствие готовности идти к великой цели? Или, быть может, сомнение в том, что цель, к которой его направляют родители, действительно великая? Действительно чего-то стоит?
Традиционные комментаторы практически всегда подразумевают первое. По их мнению, Эсав внешне хотел бы оставаться первородным, избранным, посвященным, но узнав, что это требует от него ограничений и жертв, отказался. Раши пишет: «Эсав сказал: Что представляет собой это служение? Сказал ему Иаков: Немало запретов и наказаний и смертных кар связано с ним, как мы учили в мишне: эти, совершающие служение, наказуемы смертью: опьяненные вином и обросшие волосами. Сказал Эсав: Такое служение погубит меня. А если так, зачем мне это нужно?»
Между тем по ряду косвенных признаков возникает впечатление, что Эсав пренебрег первородством (служением, избранием) не потому, что оно требовало от него самопожертвования, а потому, что он исходно не мыслил избрания как чего-то действительно ценного. Самоотверженности Эсаву как раз было не занимать. «Ходящий на смерть человек полей», он всегда был готов к разного рода лишениям.
Как можно, в самом деле, серьезно думать, что Эсав не был способен подавить голод ради того, что он по-настоящему ценил? Скорее, имело место другое. Скорее, он ощущал, что первородство – это вообще сомнительная ценность. Да подавись ты им! – вероятно, подумал он, принимая от Иакова миску с чечевичной похлебкой.
Как только что мы прочли, слова Эсава «Вот я хожу на смерть, зачем мне первородство», трактуются Раши в том смысле, что нарушения в служении, совершаемом первенцем-священником, могут повлечь за собой смерть. Но эту фразу можно понять и по-другому, а именно как выражение своего нравственного превосходства: вот я мужественный, самоотверженный человек – зачем мне еще это внешнее избранничество, в котором заведомо нет и не может быть ничего ценного? Кто знает, может быть, со стороны Эсава вся эта сделка являлась некоей антиеврейской демонстрацией?
В сущности даже естественно было бы ожидать, чтобы зарождению еврейства предшествовала некая антисемитская акция, некий протест против зарождения «избранного народа». В любом случае естественно предположить, что Эсав уступил первородство по той самой причине, по которой на протяжении веков его потомки это первородство (избрание) осмеивали и презирали. Поступок Эсава может стать для нас гораздо понятнее, если мы попытаемся воспринять его глазами его бесчисленных антисемитских потомков.
Подытоживая традиционный церковный взгляд на «избрание Израиля», лютеранский теолог Гарнак пишет, что всем представителям древней церкви «несомненно было то, что теперь он (еврейский народ - А.Б.) отвержен Богом и что все откровения Бога, если только таковые были в дохристианскую эпоху (большинство допускало их и считало Ветхий Завет Священным писанием) имели целью лишь избрание “нового народа” и подготовление Божьего откровения через Сына Его».
Другими словами, по вере духовных наследников Эсава, «избирая» Иакова, Всевыший лишь разыграл спектакль, то есть использовал тщеславие Иакова, для того чтобы привести для всего человечества «Сына Божия».
А вот что говорят столпы уже не церковной, а Новой эдомской культуры. Руссо в «Исповеди савойского епископа» пишет: «Тот, кто начинает с того, что выбирает себе один народ и отворачивается от всего остального человечества, не есть общий отец человечества». Ему вторит Гегель в "Философии религии": "Пятикнижие Моисеево - это только предсказание, всеобщее содержание которого не стало истиной израильского народа. Бог есть лишь Бог этого народа, а не всех людей".
В этих оборотах можно усмотреть то обострение, которое ведет к радикальным дуалистическим выводам Амалека. Иногда между опытом Эсава и его внука Амалека действительно обнаруживаются точки соприкосновения, и все же в исходной позиции Эсава лежит своя здравость, лежит глубинная вера в то, что Бог – это Бог именно всего человечества, что у него не может быть «любимчиков».
Та легкость, с которой Эсав отказался от первородства, говорит не столько о его бездуховности, сколько об особенностях его духовной организации. Ведь и Эсав и Иаков родились из жертвы. То, что Эсав забыл ценность своего чудесного рода, сохранив общий интерес к религии как таковой, весьма характерно.
Если в чем Эсав и вышел плох, так это в своей упрощенности, в своей неспособности взглянуть на Божественный план шире.
Профессор и студентка
В этой связи интересно отметить противоположное отношение к браку со стороны общины Эсава и со стороны общины Иакова. Согласно вере Эсава, «хорошо человеку не касаться женщины» (1 Кор 7.1), согласно вере Иакова, когда юноше исполняется двадцать лет, Всевышниий вопрошает: «когда же этот человек женится наконец?» (Кидушин 29.б).
Союз Бога с избранным народом и брачные союзы внутри этого народа - глубоко спаренные реалии. Они немыслимы друг без друга: брак неустойчив без цементирующего его сверхсмысла, сверхсмысл обнаруживает свою последнюю глубину в брачной образности. Эсав не понимает избрания Израиля, так как видит последние устои в универсальном, а не в частном, так как не ценит брачного союза как духовной реальности. В этом смысле можно сказать, что антисемитизм Эсава свел к себе и абсорбировал все прочие (не патологические) формы юдофобии. Благодаря Эсаву все антиеврейские настроения оказались сведены к единой аргументации: евреи слишком много о себе воображают.
На что это похоже? На профессора математики, преподающего в пансионе благородных девиц. Все студентки восхищаются им, все его уважают, все ждут от него слов поощрения, наконец, все благодарны той человеческой поддержке, которую он им непрестанно оказывает. Все идет прекрасно... до тех пор, пока профессор не выделяет вдруг одну из своих семидесяти студенток, причем не в качестве лучшей ученицы и благовоспитанной девицы, а в качестве... своей невесты! Скандал неизбежен.
Решение жениться на одной из студенток, решение радикально выделить эту студентку и приблизить к себе, причем вне всякой связи с ее достижениями в области математики, не может не вызвать возмущения и ропота: какое все это имеет отношение к математике?
Да никакого, конечно, не имеет, и иметь не может. Просто есть предметы не менее важные, чем наука, успехи в учебе и даже благонравное поведение, и это так называемое «счастье в личной жизни».
Студентки язвительно говорят невесте профессора: «Если ты воображаешь, что от того, что ты обручилась с профессором, ты стала лучше знать математику или стала более благородной и благонравной, то знай, что ты ошибаешься».
Да не воображает она! Но и вы, благородные девицы, признайтесь себе, что вовсе и не думаете того, что говорите; что на самом деле вы либо завидуете своей соученице, либо считаете ее отношения с профессором «грязью». А если не так, то согласитесь, наконец, что стать невестой профессора тоже что-то значит, и заслуживает не только одного презрения.
Хотят семьдесят народов этого или не хотят, но они призваны осознать, что Всевышний выбрал Израиль, сколько бы мало «логики» за этим не стояло, как сказано: «не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Господь и избрал вас,... но из любви Господа к вам» (Дварим 7.8.)
А евреям не следует бояться зависти, ревности и непонимания благородных народов, как сказано: «На Бога полагаюсь, не устрашусь. Что сделает мне человек?» (Тегил 56.12)
К содержанию
Проект "Шатры Яакова":
Самоучитель ивритаИврит-русский разговорник
Лексикон иврита
Устный иврит
Еврейские имена
Путеводитель по Израилю
Фотопутешествия по Израилю
Города и поселки Израиля
Cправочник по городам и поселкам
История Земли Израиля
Библиотека по еврейской истории
Недельные чтения Торы
Еврейские праздники
Ивритская поэзия
Ивритская проза
Детская ивритская поэзия
Израильские песни
Города Израиля
Города
Поселки городского типа
Региональные советы
Деревни
Поселения
Киббуцы
Мошавы
Еврейские праздники
Рош а-Шана
Йом Кипур
Суккот
Симхат-Тора
Ханука
Ту Би-Шват
Пурим
Песах
День Независимости
Лаг Ба-Омер
Шавуот
Тиш'а Бе-Ав