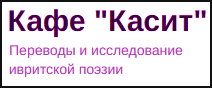АРЬЕ БАРАЦ
Недельные чтения Торы
Праздники и даты
К содержанию
Недельная глава "Вайешев"
ИНТИМНАЯ ИСТИНА («Вайешев» 5767 - 14.12.2006)
Как Кьеркегору и другим экзистенциальным мыслителям, пришедшим после него, удалось избежать даже самого легкого, косметического «оскорлупления»? В чем секрет заданного Кьеркегором «тона», не позволяющего людям кучковаться вокруг него, но переживать общение с ним только наедине?
«И-агдарут»
В недельной главе «Вайешев» рассказывается о продаже Йосефа в Египет: «И было, когда пришел Йосеф к братьям своим, они сняли с Йосефа рубашку его, рубашку его разноцветную, что на нем. И взяли его, и бросили его в яму; а яма эта пустая, не было в ней воды. И сели они есть хлеб, и взглянули, и увидели: вот, караван Ишмаэлитян приходит из Гилада, и верблюды их несут пряности, бальзам и лот; идут они, чтобы свезти в Египет. И сказал Игуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем его кровь? Пойдем, продадим его Ишмаэлитянам, а рука наша да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша. И послушались его братья. И когда проходили мимо люди Мидьянские, купцы, они вытащили и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа Ишмаэлитянам за двадцать сребреников; а те отвели Йосефа в Египет» (37:23-27).
Вне всякого сомнения опыт Йосефа – тайного царя и праведника, проданного в рабство своими братьями, возвысившегося в неволе и спасшего в результате этого возвышения свою семью - является одним из самых наглядных примеров искры, оказавшейся в темнице скорлупы и высвобожденной оттуда в результате «тикуна» (исправления).
В прошлой статье, написанной в связи с родословной Эсава, я обратил внимание на то, что дело исправления существенно затрудняется в случае последних мрачных клипот. Согласно Лурии, 288 искр Божесвенного света оказались поглощены скорлупами собственно демонического мира, и их извлечение оказывается делом особо трудным. Это с одной стороны, с другой стороны, как было замечено, само это дело «тикуна» нередко подвергается «оскорлуплению». Так, саббатианство, пустившееся в авантюру извлечения последних искр посредством уподобления скорлупам, кончило весьма печально. Упоминал я и о претерпевшем известное «оскорлупление» хасидизме.
Между тем в ту пору, когда хасидизм переживал еще свой расцвет, в Эдоме явился муж веры, дело которого в сущности не подверглось классическому для всех религиозных начинаний организационных перерождений. Я имею в виду датчанина Серена Кьеркегора (1813-1855).
Свою философию Кьеркегор назвал экзистенциальной, противопоставив ее тем самым общепризнанной эссенциальной философии. Но вне этого противопоставления слово «экзистенция» мало что говорит о сути кьеркегоровского учения.
Если же примениться именно к сути, то эту философию скорее следовало бы назвать философией неопределенности (на иврите это будет звучать как «и-агдарут»). Согласно этому подходу, человек исходно никак не определен, он от начала и до конца делает себя сам, либо изобретая неапробированные новые концепции и проекты, либо принимая на себя ответственность за проверенные старые. А поскольку это определение, это делание себя сопряжено с возможностью полного провала, сопряжено с высоким риском несостоятельности, то начинается оно, по словам Кьеркегора, не с удивления, как классичекая философия, а с... отчаяния. «Лишь доведенный до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо», - утверждает этот мыслитель.
Возможно, было бы преувеличением сказать, что в «и-агдаруте» явилось некое последнее искупление, некий последний «тикун», но в нем открылась некая последняя правда о человеке: он и только он, он от начала и до конца ответственен за то, кем является.
Но что быть может самое интересное и примечательное – эта правда не подверглась «оскорлуплению». Непреложный факт: не нашлось слабых умов, пожелавших «заклипать» искру экзистенциального учения в скорлупу учреждений; не нашлось людей, попытавшихся монополизировать экзистенциализм и тем самым в какой-то мере скомпрометировать его в глазах человечества.
Кто-то может сказать, что такова судьба всех философов, что все они воспринимаются своими последователями более-менее адекватно. Это не вполне так. Во-первых, философские учения также покрываются скорлупой, они закостенвают в стенах академий, они продолжают свое унылое существование на кафедрах, среди подсиживающих друг друга и снобствующих профессоров. А во-вторых, экзистенциализм - это в первую очередь именно духовное, чтобы не сказать религиозное делание, и лишь во-вторую - философия.
В этом смысле понятны слова Шестова, что Кьеркегор «заранее приходит в ужас и бешенство при мысли, что после его смерти «приват-доценты» будут излагать его философию как законченную систему идей, расположенных по отделам, главам и параграфам, и что любители интересных философских конструкций будут испытывать умственное наслаждение, следя за развитием его мыслей».
Кьеркегор, конечно, изучается, и еще как изучается «приват-доцентами». Но удивительное дело, многие из них при этом проникаются его пафосом «частного мыслителя». Это же можно сказать и в отношении теологов и проповедников всех мастей. В свое время Кьеркегор в равной мере выступал и против Гегеля, введшего, по его словам, в философию «проклятую лживость», и против лютеранского епископа Мюнстера – «ядовитого растения», распространяющего «чудовищную коррупцию». Но через столетие Кьеркегор, по словам Шестова, «овладел помыслами не только наиболее выдающихся немецких теологов, но и философов, даже профессоров философии».
Итак, сегодня наследие Кьеркегора изучается в академиях, а проповедники всех религий цитируют его высказывания. Это, конечно, не удивительно. Удивительно другое. Удивительно, что не существует людей, елейно улыбающихся при произнесениии его имени, что нет групп и общин, насаждающих его учение как картошку при Екатерине.
После смерти Сведенборга немедленно началась организационная суета по учреждению его «церкви», а его последователи и поныне не могут договориться между собой. Между тем Кьеркегор и сегодня остается одиноким «частным мыслителем», с которым чувствуют глубинную связь миллионы других частных лиц.
Познакомившись в конце 1930-х годов с сочинениями Кьеркегора, Лев Шестов написал: «Есть все основания думать, что идеям Кьеркегора суждено сыграть очень большую роль в духовном развитии человечества. Роль, правда, своеобразную. В классики философии он вряд ли попадет и всеобщего внешнего признания, быть может, он не получит. Но мысль его незримо будет присутствовать в душах людей».
После того как были сказаны эти слова, прошло семьдесят лет, но невидимая «церковь» Кьеркегора расширяется, неизменно оставаясь невидимой. Причем его «церковь» – это также и «церковь» всякого частного искателя истины. Каждый - в центре ее. Чудесным образом экзистенциальная философия избежала и лживости, и коррупции. Итак, экзистенциализм был и остается неформальным учением, которое все привлекают для своего оправдания, но которое никто не способен оседлать в собственных интересах.
Секрет успеха
Как это произошло? Как Кьеркегору и другим экзистенциальным мыслителям, пришедшим после него, удалось избежать не только «петрификации», но даже и самого легкого, косметического «оскорлупления»? В чем секрет заданного Кьеркегором «тона», не позволяющего людям кучковаться вокруг него, но переживать общение с ним только наедине?
А не только тон, но и общая идейная направленность, были, конечно, Кьеркегором вполне сознательно заданы. В его сочинениях можно встретить немало замечаний, подобных следующим: «Я не намеревался писать книгу, говорящую от имени миллионов, миллионов и миллиардов». «Быть членом партии у меня нет никакой склонности». «Существует мировоззрение, согласно которому повсюду, где масса, там и правда... Но есть и другое мировоззрение, согласно которому повсюду, где масса, там и неправда».
И все же это лишь вторая волна, первый и главный причиной является, на мой взгляд, интимизация религиозной Истины, то есть отрицание ее всеобщности.
Кьеркегор объявил, что ходит учиться не к профессору философии Гегелю, а к частному мыслителю Иову, который «выпал из общего». «Заброшенность в мир», о которой заговорили экзистенциалисты 40-х - 50-х годов, исходно предполагает выброшенность из общего.
Вот в каких ярких словах говорит о вновь открывшейся природе религиозной истины Лев Шестов в завершении своей книги «Только верой»: «Никто тебя не поддержит, все восстанут против тебя, все тебя осудят – т.е. ты будешь оставлен вне покровительства всех законов, ты воплотишь в самом себе беззаконие – как рассказывал Толстой, Лютер, Ницше и другие, и тогда только поймешь ты, что говорил псалмопевец: если Бог со мной – мне никого не нужно. Не нужно даже, чтобы люди признавали, что Бог со мной. Не нужно, чтобы Бог ополчался на тех кто против меня. Не нужно чтобы все были как я, чтобы были у меня средства вести за собой людей. Вести и объединять людей для человеческого дела может человек. Но к Богу приходит человек лишь тогда, когда Бог его позовет, когда Бог приведет его к Себе. Последняя истина рождается в величайшей тайне и одиночестве. Она не только не требует, она не допускает присутствия посторонних…
Я хорошо понимаю, что отнимая у истины ее основную, считающуюся до сих пор неотъемлемой, прерогативу, ее право на высшую санкцию, на всеобщее признание – я дискредитирую ее в глазах людей. И я почти уверен в том, что для огромного большинства людей истина, потерявшая право на всеобщее признание, покажется королем без короны, солью, потерявшей свою соленость. И все-таки я не могу иначе думать и говорить… Как для влюбленного безразлично, видят ли все в его возлюбленной лучшую женщину, так и для того, кто ищет истины, общее признание теряет всякое значение".
Стоит ли удивляться тому, что Лев Шестов, так же счастливо, как и его предшественник Кьеркегор, избежал оскорлупления, что его «дело» и поныне остается для нас чистой и яркой искрой.
К содержанию
Проект "Шатры Яакова":
Самоучитель ивритаИврит-русский разговорник
Лексикон иврита
Устный иврит
Еврейские имена
Путеводитель по Израилю
Фотопутешествия по Израилю
Города и поселки Израиля
Cправочник по городам и поселкам
История Земли Израиля
Библиотека по еврейской истории
Недельные чтения Торы
Еврейские праздники
Ивритская поэзия
Ивритская проза
Детская ивритская поэзия
Израильские песни
Города Израиля
Города
Поселки городского типа
Региональные советы
Деревни
Поселения
Киббуцы
Мошавы
Еврейские праздники
Рош а-Шана
Йом Кипур
Суккот
Симхат-Тора
Ханука
Ту Би-Шват
Пурим
Песах
День Независимости
Лаг Ба-Омер
Шавуот
Тиш'а Бе-Ав