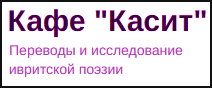АРЬЕ БАРАЦ
Недельные чтения Торы
Праздники и даты
К содержанию
Недельная глава "Тазриа"
СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ («Тазриа» 5771 - 01.04.2011)
Свежие мысли относительно заочных определений пришли в голову Достоевского в тот же период, когда рав Исраэль Меир Акоэн решил подытожить соответствующий опыт сорока веков еврейской истории, когда он начал работать над «Хефец Хаим» (1873). («Идиот» был издан 1868 году, «Братья Карамазовы» - в 1879). Лев Шестов как-то справедливо заметил, что «уровень идей во всех странах один и тот же, как уровень воды в сообщающихся сосудах». Действительно, очень часто именно само время задает и открывает проблемы, очень часто именно уже само время позволяет пересмотреть все от самого начала.
Чистая правда
В 1873 году рав Исраэль Меир Акоэн (р.1838-1933) издал одно из своих самых выдающихся галахических исследований - «Хефец Хаим», которое посвятил законам, связанным с грехом «злословия» («лашон а-ра»), как известно, наказываемым проказой, о которой подробно говорится в недельных главах «Тазриа» и «Мецора».
На протяжении веков евреи следили за своей речью, на протяжении веков разные мудрецы отмечали пагубность злословия, но лишь во второй половине 19-го столетия рав Исраэль Меир Акоэн произвел столь обстоятельное и исчерпывающее исследование в этой области. Сама же его книга оказалась столь популярна, что в наши дни трудно найти (практикующий иудаизм) еврейский дом, в котором бы ее не было.
В своей книге рав Акоэн насчитал 31 заповедь, запрещающую за глаза обсуждать недостатки (а в пределе даже и достоинства) своих ближних, причем речь идет о распространении заведомо правдивых слухов: клевета представляет собой отдельное преступление, никак не подпадающее под грех «злословия».
Но каким образом склонность делиться со своими ближними заведомо достоверной информацией может считаться одним из самых серьезных грехов, о котором сказано: «За три греха человека наказывают на этом свете, и много он теряет в мире грядущем: за идолослужение, за кровопролитие, а более всего - за злой язык» (Авода Зара 19).
Почему правдивые слова о третьем лице вообще объявлять «злыми»? Почему верно пересказанная история в ивритской лексике именуются «злоречием» («лашон а-ра») и категорически запрещается Торой? Что по существу объединяет десятки пестрых и разнообразных Божественных запретов? («Сторонись неправды» (Шмот 23:7), «Не ходи сплетником в народе своем». (Ваикра (19.16) и т.д). Почему не наоборот? Почему пересуды о поступках ближних не подвести под пасук: «Правды, правды ищи»? (Двар 16:20)
Из книги «Хефец Хаим» явствует, что «перемывание» чужих косточек возбуждает в человеке нездоровые страсти, провоцирует на осуждение, на насмешку и пр. Но что не менее важно, сама «правда», высказанная о третьем лице, слишком быстро оборачивается «полуправдой», то есть так или иначе оказывается действительным «злом».
Предельно ясно это обстоятельство сформулировано М.Бахтиным в его книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1929): «В человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова, что не поддается овнешняющему заочному определению... Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, то есть заочная правда, становится унижающей и умерщвляющей его ложью, если касается его «святая святых», то есть «человека в человеке».... Итак, в заочном обсуждении правда становится ложью, становится неправдой, которой следует сторониться, а не «искать».
Бахтин показывает, как эта мысль проявляет себя в сочинениях Достоевского: «В «Идиоте» Мышкин и Аглая обсуждают неудавшееся самоубийство Ипполита. Мышкин дает анализ глубинных мотивов его поступка. Аглая ему замечает:
«А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет: одна правда, стало быть – несправедливо» (VI, 484).
Правда оказывается несправедливой, если она касается каких-то глубин чужой личности. Тот же мотив еще отчетливее, но несколько сложнее звучит в «Братьях Карамазовых» в разговоре Алеши с Лизой о капитане Снегиреве, растоптавшем предложенные ему деньги. Рассказав об этом поступке, Алеша дает анализ душевного состояния Снегирева и как бы предрешает его дальнейшее поведение, предсказывая, что в следующий раз он обязательно возьмет деньги. Лиза на это замечает:
«Слушайте, Алексей Федорович, нет ли тут во всем этом рассуждении нашем, то есть вашем... нет, уж лучше нашем... нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному... в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а? В том, что так наверно решили теперь, что он деньги примет, а?» (IX, 274 – 272).
Требование времени
Интересно заметить, что свежие мысли относительно заочных определений пришли в голову Достоевского в тот же период, когда рав Исраэль Меир Акоэн решил подытожить соответствующий опыт сорока веков еврейской истории, когда он начал работать над «Хефец Хаим» (1873). («Идиот» был издан 1868 году, «Братья Карамазовы» - в 1879)
Лев Шестов как-то справедливо заметил, что «уровень идей во всех странах один и тот же, как уровень воды в сообщающихся сосудах». Действительно, очень часто именно само время задает и открывает проблемы, очень часто именно уже само время позволяет пересмотреть все от самого начала, лишний раз подчеркивая, что кто бы мы ни были, мы неизбежно близки также и всем тем, кто дышал с нами одним «духом времени»; что современники порой оказываются в чем-то ближе друг другу, чем разделенные с ними веками соплеменники.
Но не менее важно заметить, что сообщающимися сосудам являются также и религиозные миры: еврейский и христианский. Как мы видим, одно «общее соображение», сформулированное сынами Эдома, в значительной мере способно воспроизвести значительную часть того опыта, который охвачен 31-ой заповедью, дарованной сынам Израиля!
Остается только сожалеть, что у этого «соображения» не хватило духа оценить значение «мелочной» 31-ой заповеди, а многочисленные исполнители этих заповедей упорно отказываются видеть в «соображениях» подлинный религиозный смысл.
Бахтин пишет: «Уже в первом произведении Достоевского изображается как бы маленький бунт самого героя против заочного овнешняющего и завершающего подхода литературы к «маленькому человеку». Как мы уже отмечали, Макар Девушкин прочитал гоголевскую «Шинель» и был ею глубоко оскорблен лично. Он узнал себя в Акакии Акакиевиче и был возмущен тем, что подсмотрели его бедность, разобрали и описали всю его жизнь, определили его всего раз и навсегда, не оставили ему никаких перспектив. «Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!» (I, 146).... Он почувствовал себя безнадежно предрешенным и законченным, как бы умершим до смерти, и одновременно почувствовал и неправду такого подхода. Этот своеобразный «бунт» героя против своей литературной завершенности дан Достоевским в выдержанных примитивных формах сознания и речи Девушкина».
Но, как известно, сам Достоевский не очень стеснялся давать «заочные овнешняющие и завершающие» определения своим персонажам – евреям (как, впрочем, и другим инородцам), в лучшем случае отмечая лишь “вековечную брюзгливую скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени” (пожарный из “Преступления и наказания”).
Со своей стороны редкий еврей устоит перед искушением высказать вслух всю правду о малосимпатичном ему христианине.
К содержанию
Проект "Шатры Яакова":
Самоучитель ивритаИврит-русский разговорник
Лексикон иврита
Устный иврит
Еврейские имена
Путеводитель по Израилю
Фотопутешествия по Израилю
Города и поселки Израиля
Cправочник по городам и поселкам
История Земли Израиля
Библиотека по еврейской истории
Недельные чтения Торы
Еврейские праздники
Ивритская поэзия
Ивритская проза
Детская ивритская поэзия
Израильские песни
Города Израиля
Города
Поселки городского типа
Региональные советы
Деревни
Поселения
Киббуцы
Мошавы
Еврейские праздники
Рош а-Шана
Йом Кипур
Суккот
Симхат-Тора
Ханука
Ту Би-Шват
Пурим
Песах
День Независимости
Лаг Ба-Омер
Шавуот
Тиш'а Бе-Ав